
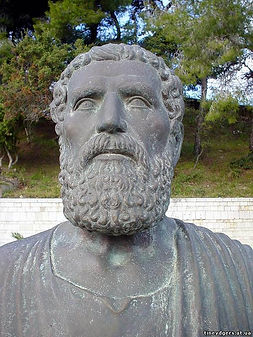
Ксенофонт
Ксенофонт Афинский (был слушателем Сократа)
"ВОСПОМИНАНИЯ О СОКРАТЕ"
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава 5
...только воздержные могут задаваться высокими целями и, разделяя в теории и на практике предметы по родам, хорошим отдавать предпочтение, а дурных избегать.
Таким образом, говорил Сократ, люди становятся высоконравственными, очень счастливыми и весьма способными к диалектике. Да и слово "диалектика", говорил он, произошло оттого, что люди, совещаясь в собраниях, разделяют предметы по родам. Поэтому надо стараться как можно лучше подготовиться к этому и усердно заниматься этим: таким путем люди становятся в высшей степени нравственными, способными к власти и искусными в диалектике.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава 6
[Диалектические определения понятий "благочестие", "справедливость" и других]
(1) Я попытаюсь рассказать также о том, как Сократ развивал в своих друзьях способность к диалектике. Сократ держался такого мнения: если кто знает, что такое данный предмет, то он может объяснить это и другим; а если не знает, то нисколько не удивительно, что он и сам ошибается и вводит в ошибку других. Ввиду этого он никогда не переставал заниматься с друзьями исследованием вопросов, что такое каждый предмет. Приводить все его определения понятий было бы делом обширным1, поэтому я ограничусь лишь теми определениями, на которых надеюсь показать его метод исследования.
(2) Прежде всего он исследовал вопрос о благочестии приблизительно так.
— Скажи мне, Эвтидем, — спросил он, — что за вещь, по-твоему, благочестие.
— Прекрасная, клянусь Зевсом, — отвечал Эвтидем.
— Так, можешь ли ты сказать, что за человек — благочестивый?
— Мне кажется, — отвечал Эвтидем, — это тот, кто чтит богов.
— А можно ли чтить богов, как кому вздумается?
— Нет, есть законы, на основании которых должно чтить богов.
(3) — Следовательно, кто знает эти законы, может знать, как должно чтить богов?
— Думаю, что так, — отвечал Эвтидем.
— Следовательно, кто знает, как должно чтить богов, думает, что это должно делать не иначе, а именно так, как он знает?
— Конечно, не иначе, — отвечал Эвтидем.
— А чтит ли кто богов иначе, а не так, как, по его мнению, должно?
(4) — Думаю, что нет, — отвечал Эвтидем.
— Стало быть, кто знает постановления закона, касающиеся богов, тот будет чтить богов законным образом?
— Конечно.
— Следовательно, кто чтит их законным образом, чтит, как должно?
— Как же иначе?
— А кто чтит, как должно, тот благочестив?
— Конечно, — отвечал Эвтидем.
— Стало быть, правильно будет наше определение: кто знает постановления закона, касающиеся богов, тот благочестив?
— Мне, по крайней мере, кажется, что да, — отвечал Эвтидем.
(5) — А к людям относиться можно ли, как кому вздумается?
— Нет, и о людях есть постановления закона.
— Следовательно, люди, относящиеся друг к другу согласно с этими постановлениями, относятся, как должно?
— Как же иначе?
— Следовательно, кто относится к людям, как должно, относится правильно?
— Конечно, — отвечал Эвтидем.
— Следовательно, кто относится к людям правильно, правильно делает человеческие дела?
— Надо думать, что так, — отвечал Эвтидем.
— Следовательно, кто повинуется законам, тот делает справедливые дела?
— Конечно, — отвечал Эвтидем.
(6) — А знаешь ли ты, какие дела называются справедливыми? — спросил Сократ.
— Это те, которые повелевают законы.
— Стало быть, кто делает, что повелевают законы, тот делает справедливые дела и те, которые должно делать?
— Как же иначе?
— Следовательно, кто делает справедливые дела, тот справедлив?
— Думаю, что так, — отвечал Эвтидем.
— Так думаешь ли ты, что кто-нибудь повинуется законам, не зная, что законы повелевают?
— Не думаю, — отвечал Эвтидем.
— А думаешь ли ты, что кто-нибудь, зная, что должно делать, думает, что должно не делать этого?
— Не думаю, — отвечал Эвтидем.
— А знаешь ли ты, что кто-нибудь делает иное, а не то, что, по его мнению, должно делать?
— Нет, — отвечал Эвтидем.
— Стало быть, кто знает постановления закона, касающиеся людей, тот делает справедливые дела?
— Конечно, — отвечал Эвтидем.
— Следовательно, кто делает справедливые дела, тот справедлив?
— Кто же другой? — отвечал Эвтидем.
— Стало быть, мы сделаем в конце концов правильное определение, если определим, что справедлив тот, кто знает постановления законов, касающиеся людей?
— Мне кажется, что да, — отвечал Эвтидем.
(7) — А что нам сказать о мудрости? Что такое она? Скажи мне, как по-твоему, — мудрые мудры в том, что знают, или же есть люди, которые мудры в том, чего не знают?
— Очевидно, в том, что знают, — отвечал Эвтидем. — Как же можно быть мудрым в том, чего не знаешь?
— А мудрые мудры по причине знания?
— По какой же другой причине можно быть мудрым, как не по причине знания? — сказал Эвтидем.
— Думаешь ли ты, что мудрость есть нечто иное, а не то, благодаря чему люди мудры?
— Нет.
— Стало быть, мудрость есть знание?
— Мне кажется, что да.
— А как ты думаешь, человеку можно знать все, что есть на свете?
— Думаю, клянусь Зевсом, нельзя даже малой доли этого.
— Стало быть, человеку невозможно быть мудрым во всем?
— Клянусь Зевсом, конечно, нет.
— Стало быть, каждый мудр в том, что он знает?
— Мне кажется, что да.
(8) — Не следует ли нам, Эвтидем, таким же способом исследовать вопрос и о благе?
— Каким? — спросил Эвтидем.
— Как ты думаешь, всем полезно одно и то же?
— Нет.
— Не думаешь ли ты, что полезное одному иногда бывает вредно другому?
— Очень даже, — отвечал Эвтидем.
— А можешь ли ты назвать благом что-нибудь другое, а не полезное?
— Нет, — отвечал Эвтидем.
— Стало быть, полезное есть благо для того, кому оно полезно?
— Мне кажется, да, — отвечал Эвтидем.
(9) — А прекрасное можем ли мы определить как-нибудь иначе?2Или же есть на свете тело, сосуд или другой какой предмет, который ты называешь прекрасным, про который ты знаешь, что он прекрасен для всего?
— Клянусь Зевсом, нет, — отвечал Эвтидем.
— Так не прекрасно ли употреблять каждый предмет для того, для чего он полезен?
— Конечно, — отвечал Эвтидем.
— А бывает ли прекрасен предмет для чего-нибудь другого, кроме как для того, для чего его прекрасно употреблять?
— Ни для чего другого, — отвечал Эвтидем.
— Стало быть, полезное прекрасно для того, для чего оно полезно?
— Мне кажется, да, — отвечал Эвтидем.
(10) — А храбрость, Эвтидем, как ты думаешь, один из прекрасных предметов?
— Не прекрасный, а прекраснейший, — отвечал Эвтидем.
— Значит, по-твоему, храбрость — вещь полезная не для каких-нибудь ничтожных случаев?
— Клянусь Зевсом, наоборот, для самых важных.
— А как по-твоему, в страшных и опасных случаях полезно не знать их?
— Никоим образом, — отвечал Эвтидем.
— Значит, кто не боится в таких случаях, потому что не знает, что это такое, тот не храбрый?
— Клянусь Зевсом, нет: тогда многие сумасшедшие и трусы оказались бы храбрыми.
— А что скажешь о тех, кто боится даже нестрашного?
— Клянусь Зевсом, они еще менее храбры.
— Следовательно, того, кто хорош в страшных и опасных обстоятельствах, ты считаешь храбрым, а кто дурен — трусом?
— Конечно, — отвечал Эвтидем.
(11) — А хорошим при таких обстоятельствах ты считаешь кого другого, или того, кто может хорошо с ними справляться?
— Нет, именно такого, — отвечал Эвтидем.
— А дурным, значит, такого, который плохо с ними справляется?
— Кого же другого? — отвечал Эвтидем.
— А каждый справляется так, как, по его мнению, должно?
— Как же иначе? — отвечал Эвтидем.
— А кто не может хорошо справляться, знает, как должно справляться?
— Конечно, нет, — отвечал Эвтидем.
— Стало быть, кто знает, как должно справляться, тот и может?
— Да, только тот, — отвечал Эвтидем.
— А кто не делает ошибок, тот разве плохо справляется с такими обстоятельствами?
— Не думаю, — отвечал Эвтидем.
— Стало быть, кто дурно справляется, тот делает ошибки?
— Разумеется.
— Следовательно, кто умеет хорошо справляться со страшными и опасными обстоятельствами, тот храбр, а кто делает ошибки в таких случаях — трус?
— Мне кажется, да, — отвечал Эвтидем.
(12) Монархию и тиранию Сократ считал формами правления, но находил между ними разницу: правление при добровольном согласии народа и на основании законов республики он считал монархией3, а правление против воли народа и не на основании законов, а по произволу правителя, — тиранией4. Где должностные лица выбираются из людей, исполняющих законы, такой государственный строй он считал аристократией; где на основании ценза — плутократией5; где из всех граждан — демократией.
(13) Если кто вступал с Сократом в спор, и, хотя не мог сказать ничего вразумительного, бездоказательно утверждал6, что некто умнее, или искуснее в государственных делах, или храбрее и тому подобное, то Сократ обращал весь спор вспять, к основному положению, приблизительно так:
(14) — Ты утверждаешь, что тот, кого ты хвалишь, более достойный гражданин, чем тот, кого я хвалю?
— Да, я это утверждаю.
— Так, давай сперва рассмотрим вопрос, в чем состоят обязанности достойного гражданина.
— Хорошо, сделаем это.
— Так, при управлении финансами выше окажется тот, кто увеличивает доходы государства?
— Конечно.
— А на войне, — кто доставляет ему перевес над противниками?
— Как же иначе?
— А при дипломатических отношениях, — кто бывших врагов делает ему друзьями?
— Надо думать, что так.
— А при выступлении оратором в Народном собрании, — кто прекращает борьбу партий и водворяет согласие?
— Мне кажется, да.
При таком обращении спора к основному положению самому противнику истина становилась ясной.
(15) Когда Сократ сам рассматривал какой-нибудь вопрос в своей беседе, он исходил всегда от общепризнанных истин, видя в этом надежный метод исследования. Поэтому при всех своих рассуждениях ему удавалось гораздо больше, чем кому-либо другому из известных мне лиц, доводить слушателей до соглашения с ним. Да и Гомер, говорил Сократ, приписал Одиссею свойства "уверенного"оратора ввиду его уменья в речах своих исходить из положений, принимаемых за истину всеми людьми.